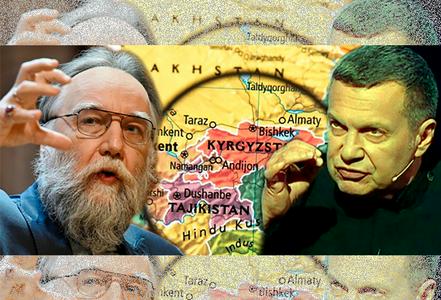Ферганская долина – один из самых густонаселенных регионов мира и самое населенное место в Центральной Азии. Плотность населения местами превышает 800 человек на квадратный километр, что вдвое больше, чем в Индии. Большинство поселков здесь переходят один в другой практически без разрыва, образуя единое человеческое пространство, людское море от горизонта до горизонта. Тем необычнее выглядят артефакты первозданной природы, вклиненные в культурный ландшафт живыми напоминаниями о том, как могла выглядеть эта предельно обжитая земля сотни и даже тысячи лет назад.
В последние дни марта 2025 года корреспондент «Ферганы» Андрей Кудряшов вместе с ведущим популярного блога «Узбекистан: блокнот исследователя» Тимуром Нумановым совершил короткое фотопутешествие по экзотическим уголкам на западе Ферганской области, наблюдая причудливые стыки современной цивилизации с архаическими формами рельефа и жизненного уклада. Не отходя ста шагов от автомагистрали.
Перепады высот и погоды
Из Ташкента в Ферганскую долину и обратно жители Узбекистана ежедневно попадают только одним путем – через высокогорный перевал Камчик.
Мы отправились в поездку за день до праздника Ураза-Байрам, поэтому выехали из столицы затемно – чтобы не угодить в слишком плотный транспортный поток. Запоздалая и прохладная весна этого года окутала подступы к перевалу романтическими туманами. А на его седловине, на высоте 2268 метров над уровнем моря, нам удалось ненадолго вернуться в разгар зимы. Причем такой, какой она в Ташкенте редко бывает и в январе. Большинство проезжающих через перевал весной обязательно останавливаются на смотровых площадках для «прощания с зимой». В отдельные годы такие прощания остаются возможными до середины мая. А в этом году на обратной дороге мы попали на перевале Камчик в густую метель.
После того как по международной автомагистрали А-373 Ташкент-Андижан-Ош-Кашгар мы проехали два километра прорубленных в скальной породе тоннелей, навстречу хлынула волна по-настоящему весеннего тепла. Мы уже в Ферганской долине. Климат здесь в целом теплее и мягче, что обусловлено изоляцией от северо-западных воздушных масс, путь которым преграждают высокие горы. Поэтому зимы в Ферганской долине короткие и менее холодные. Фруктовые деревья обычно зацветают на пару недель раньше, чем в Ташкенте. Зато и осадков выпадает меньше. Это удобно для орошаемого земледелия с хорошо развитой ирригационной системой. Но при изменениях климата и речного стока чревато гуманитарными рисками.
На спуске с перевала бросаются в глаза земли, которые выглядят так, будто на них не упало ни капли дождя от сотворения мира. Это адыры — особенные центральноазиатские предгорья, сложенные из продуктов разрушения горных пород, тысячелетиями сносимых весенними паводками. На самом деле воды сезонных ручьев, грунтовых вод и мелких, пересыхающих летом озер в них полно. Но поверхность грунта не держит влагу. И не зеленеет даже в начале весны.
В Ташкентской области и многих регионах центрального Узбекистана суглинистые предгорья широко и давно используются для богарного земледелия. На дождевом орошении на них выращивают зерновые и разводят виноградники. Адыры Ферганской долины выглядят как ландшафты иного мира, полностью чуждого человеческой цивилизации. Они сложены из других природных материалов, в которых преобладают лесс, гипс, известняки и каменные конгломераты. По международной классификации природных ландшафтов адыры – типичный бедленд, то есть местность, практически непригодная для жизни и хозяйственной деятельности человека. При этом ученые в Узбекистане считают, что в Ферганской долине человеческая цивилизация и культура могли зародиться именно в адырном поясе еще до освоения искусственного орошения.
На мой личный взгляд как фотографа пейзажиста, папские адыры, которые начинаются от автомагистрали А-373 в Папском районе Наманганской области и тянутся далеко на восток, – одно из самых живописных и экзотических мест в мире. С такой оптикой, разумеется, согласятся не все. Современному человеку они могут показаться слишком дикими и пугающими. Хотя стоит отъехать чуть к югу — к пойме реки Сырдарья, — и пейзажи становятся несравненно уютнее. Аккуратные квадратики возделанных полей, обрамленные аллеями пирамидальных тополей и насаждениями тутовника-шелковицы – визитной карточки Ферганской долины как одного из мировых центров шелководства.
Принцесса пепельных песков
Сразу за мостом через Сырдарью, в Дангаринском районе Ферганской области, не доезжая 14 километров до Коканда, между поселками Кичик Турк и Катта Турк я обратил внимание на высокий и темный холм, подходящий одним из склонов почти к дорожному полотну. А вот и барханы!.. После утреннего дождя непросохший песок не блестит на солнце. Поэтому я его чуть не проглядел. Но он высыхает на наших глазах. И мы, покинув машину, углубляемся в мир настоящей пустыни, продираясь сквозь густые заросли кандыма. Здесь нет обязательных атрибутов открыточной пустынной экзотики – караванов верблюдов, колодцев и рощ саксаула. Но все остальное на месте. Волнистые гребни дюн, похожие на застывшие волны, испещрены следами живых существ – лисиц, шакалов, ушастых ежей, ящериц и птиц. В небе парит крупный коршун.
Цвет песков Катта Турк заметно другой, чем в Кызылкуме или в Сахаре. В них совсем нет теплых, охристых и кирпичных тонов. Оттенки здешних барханов варьируются от кофейно-бурых до зеленовато-пепельных, иногда просто черных и белых. Это речной песок — наносы из Сырдарьи, за многие тысячелетия многократно менявшей русла.
Еще век назад пустыня Аккум занимала почти всю центральную часть Ферганской долины, местами дотягиваясь и до ее окраин. В 1939 году методом хашара – массовой народной стройки — всего за 45 дней были прорыты 300 километров Большого Ферганского канала. Началось тотальное наступление хлопковых полей. В XXI веке от пустыни осталось только 13 изолированных участков общей площадью 23 тысячи гектаров. На них обитают эндемики — сохранившиеся только здесь уникальные виды растений, насекомых и пресмыкающихся. Поэтому все оставшиеся пески получили или находятся в стадии получения статуса охраняемых территорий.
Увидев на песке большие, размером с человеческую ладонь, следы пастушеских собак, мы опасливо свернули назад, ближе к автостраде. Но поздно. Нас самих давно заметили и взяли под контроль. Вскоре из песков к нам вышла женщина в сопровождении двух алабаев — среднеазиатских овчарок. Приветливо поздоровалась и вежливо осведомилась — откуда мы, кто такие и зачем сюда прибыли. Ее зовут Малика — «принцесса» в переводе с узбекского. Малика занимается фермерством на одном из участков Кокандского лесхоза и заодно присматривает за порядком.
Издали Малика заподозрила в нас охотников за кульварами – песчаными удавчиками. По распространенным в Центральной Азии поверьям, суп из этих безобидных и занесенных в Красную книгу Узбекистана змей помогает при самых разных недугах — от ревматизма до онкологии. Удостоверившись вблизи, что я не алчный разбойник, а всего лишь столичный турист с фотоаппаратом, хозяйка пепельных песков пригласила нас на свой полевой стан. В основном он явил собой склад удобрений. Иначе как бы ей удалось вырастить вблизи барханов настоящий миндальный сад.
Малика рассказала, что держит кур и небольшое стадо скота, чей ограниченный выпас в зарослях кандыма не угрожает экологическому равновесию. Воду для питья приходится завозить, а для орошения — добывать из артезианской скважины. Пища на полевом стане готовится в тандыре – традиционной глиняной печи и на дровяном учаге (очаге). С большого бархана высотой с пятиэтажный дом, удобный подъем на который нам подсказала хозяйка, мы с удовольствием оглядели окрестности. Да, пески здесь не тянутся до горизонта… Слева, всего в ста метрах, автомобильная трасса с автозаправкой, а справа, меньше чем в километре, виднеется густой лес из пирамидальных тополей.
В Ферганской долине пирамидальные тополя нарочно сажают почти впритык друг к другу. Делается так для того, чтобы свойства пирамидальности усиливались в процессе роста. Рост дерева должен идти только вверх. Крупные боковые ветви, даже обрубленные, лишат тополиный ствол необходимых качеств: строительного бревна. Тополя здесь сажают не для красоты. «При рождении сына отец сажает сорок тополей, чтобы когда он вырастет и женится, было из чего построить дом новой семье», — напомнил Тимур Нугманов один из старинных узбекских обычаев. Старинных, но совсем не забытых. В сельских регионах повсеместно продолжают сажать тополя для постройки традиционных домов из самана (кирпичей из прессованной глины), в которых прямые и длинные бревна тополей играют роль каркаса, несущих опор и балочных перекрытий.
Отъехав пару километров от полевого стана Малики, мы смогли увидеть, как обрабатываются свежесрубленные стволы. Остро заточенными топорами и тесаками веселые работницы ловко снимают длинные лоскуты коры. Из них тут же делают связки – отличное сырье для растопки тандыров и учагов. Оголенные бревна мужчины складывают в аккуратные штабеля. О ценах мы не спросили – чтобы не рекламировать данную конкретную «лесопилку». В Ташкентской области стандартное бревно тополя длиной 6 метров сейчас стоит примерно 250 тысяч сумов ($20). Один саженец пирамидального тополя продается за 3000 сумов ($0,2).
Горькая вода
Мы обогнули по дуге город Коканд, поскольку исследование городской жизни на этот раз не входило в наши планы, и приехали в город Яйпан – административный центр Узбекистанского района Ферганской области.
Слово Яйпан на тюркских и монгольских языках может означать просто «ровное место». Как оно и было почти до конца XVII века, когда даштикипчакские узбеки из племени минг начали осваивать и заселять эту прежде пустынную местность. Хотя населенный пункт под названием Насух существовал здесь гораздо раньше. В 1498 году на пути в Андижан его крепость завоевал Захириддин Мухаммад Бабур, тепло отозвавшийся об особенной сладости местных дынь. В более поздних исторических летописях Яйпан упоминается как урочище, где много перепелок и охотников на них. А в период Кокандского ханства (1708-1876 годы) Яйпан был уже известен как родина многих узбекских поэтов, военачальников и богословов, духовных наставников кокандских ханов. В 1910 году русские построили здесь первое промышленное предприятие. Разумеется, это была фабрика по очистке хлопка.
Статус города Яйпан получил в 1975 году. Сегодня в нем проживают 25 тысяч человек, занятых в основном в отрасли хлопководства, переработки хлопка, торговли и услуг. В Яйпане нам приглянулась новая пятничная мечеть, удобные передвижные светофоры на солнечных батареях, красивые лепешки и целые бараньи туши в витринах уличных магазинов. Могло приглянуться еще очень многое, но мы торопились на юг, к границе Ферганской области.
В 20 километрах от железнодорожной станции Яйпан начинается экзотическая долина Шорсу, что в переводе с узбекского языка означает буквально соленая вода. А сезонный сай (ручей), протекающий по дну долины, называется Аччиксу – горькая (или кислая) вода. Такая концентрация в топонимике прямых указаний на высокую степень минерализации здешних вод говорит о близости крупных месторождений минералов. Еще во времена Кокандского ханства в долине Шорсу добывали самородную серу. В начале ХХ века кроме запасов серы здесь были обнаружены залежи гипса, квасцов, серного колчедана, целестина и много чего еще, о чем не напишут в открытых источниках. А в окрестностях нашли нефть и озокерит.
Ввиду высокой потребности Красной Армии в боеприпасах постановлением президиума ВСНХ от 19 декабря 1930 года было решено «включить строительство серных предприятий в число ударных первоочередных строек». К 1930 году производство серы было доведено до 4 тысяч тонн в год. В 1934 году рудник «Шорсу» получил статус поселка городского типа. В конце XX века основное месторождение истощилось, и главный серный карьер затопили весенними талыми водами, превратив в небольшое водохранилище. От былых времен в поселке Шорсу сохранилось большое русское кладбище, причем с крестами еще досоветских времен.
Современные технологии горного дела, конечно, шагнули далеко вперед по сравнению с теми, что применялись в СССР. Сегодня узбекско-турецкие совместные предприятия, работающие в долине Шорсу, активно добывают гипс, доломит, известняк и бентонит. Производят цемент, кирпич и сухие строительные смеси.
Богатство недр отразилось и на поверхности. Ландшафты долины Шорсу напоминают инопланетные пейзажи из фантастических фильмов. По геологической структуре это в основном гипсодоломитовые мергели самых причудливых форм и окраски. Формы обусловлены мягкостью пород для воздействия ветра и осадков. А цвета изменяются в зависимости от минеральных примесей в гипсе. В начале долины невзрачно серые, но чем глубже в нее, тем они ярче и причудливее.
Из-за близости к государственной границе Узбекистана и высокой концентрации промышленных предприятий долина Шорсу пока очень редко посещается туристами. Но со временем она может превратиться в интересное туристическое направление для любителей экзотики. Правда, только ранней весной.
Путешествуя здесь, я все время ловил себя на мысли, что весной в Узбекистане практически любое место может показаться райским уголком. Даже такое, как Шорсу. Но я бы не захотел оказаться здесь в другое время года. Не говоря уже о том, чтобы постоянно жить и работать. Но люди веками жили и работали почти всюду. И продолжают жить и работать – как будто это написано им на роду.