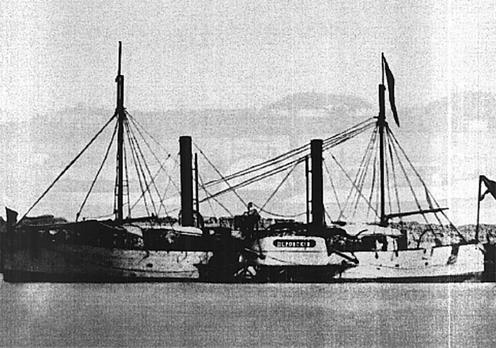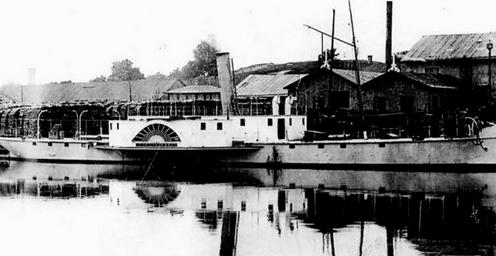В силу географических особенностей Центральной Азии мореплавание как таковое никогда не было характерной чертой местных народов, пусть они издревле и занимались рыболовством, активно участвуя также в торговле, проходящей через главные реки региона — Амударью и Сырдарью. Первые крупные суда появились в здешних водах только в середине XIX века с приходом русских армий. Конечно, история флота в бассейне Аральского моря не настолько богата событиями, как, например, история судоходства на Каспии или на Волге, но и она имеет свои особенности, тем более что условия кораблевождения здесь отличались крайней сложностью.
Из Сырдарьи в Арал и обратно
Первые транспортные и грузовые суда, пусть и небольшого тоннажа, на реках Центральной Азии появились задолго до прихода русских. Еще арабский историк X века Аль-Мукаддаси отмечал, что судоходство имело место и на Амударье, и на Сырдарье. Региональными центрами кораблестроения в разные эпохи были Термез и хорезмийский город Кят. Уже в Хивинском ханстве строились лодки грузоподъемностью около 500 килограммов, а в Бухарском эмирате любые плавсредства спускались на воду только с разрешения властей.
В свою очередь, как отмечал казахстанский историк Уахит Шалекенов, первым идею обзавестись флотом на Сырдарье русским подбросил в 1739 году хан Младшего жуза Абулхаир (1693–1748), который предполагал, что, укрепившись в устье реки, царские войска смогут оградить его кочевья от набегов джунгар. Однако на тот момент из-за трудностей со снабжением сделать этого не удалось. Решение организовать военный флот на Аральском море было принято в Санкт-Петербурге только после того, как в первой трети XIX века Россия прочно утвердилась на землях Младшего и Среднего жузов, приняв в подданство также часть прикаспийских туркмен. К этому времени Оренбургская укрепленная линия была вынесена далеко вперед в степь, к рекам Иргиз и Тургай, так что до устья Сырдарьи, где можно было устроить укрепленный форт с пристанью, оставалась всего пара сотен километров.
В 1847 году под руководством военного инженера Карла Герна на высоком мысе над Сырдарьей было построено Раимское укрепление — первый форпост русских в Приаралье. Отсюда было решено начать разведку Аральского моря: для этих целей из Орска на 1500 одноконных подводах была доставлена в разобранном виде шхуна «Константин». В пути обоз охраняли рота пехотинцев, две казачьи сотни и двухорудийная батарея. Обстановка была тревожной не только из-за перспективы встречи с хивинцами — как раз в это время в степи вовсю полыхало восстание казахов, возглавляемое Кенесары Касымовым.
Под командованием будущего контр-адмирала Алексея Бутакова «Константин», на борту которого, как известно, находился в качестве художника ссыльный солдат Тарас Шевченко, совершил 56-дневное плавание по Аральскому морю. По его итогам начальник экспедиции сделал вывод:
«Чтоб извлечь из Арал-Тынгиза [Аральского моря] какую-нибудь пользу, необходимы пароходы, а с парусными судами сделаешь немного».
Дело в том, что господствующие в акватории моря северные ветры делали предельно легким путешествие на юг, но вот возвращение в устье Сырдарьи парусному судну давалось с трудом. Тем более не годились шхуны и для плавания по реке с ее извилистым руслом. Бутаков предложил построить для Аральского бассейна на Уральских заводах два колесных парохода мощностью по 40 лошадиных сил, однако с подачи оренбургского губернатора Владимира Обручева заказ на строительство судов был размещен в Швеции. Именно в этой скандинавской стране со стапелей сошли первые корабли Аральской флотилии: колесные пароход «Перовский» и паровой баркас «Обручев». В 1852 году они, как и ранее «Константин», были в разобранном виде доставлены в Раим.
«Перовский» (водоизмещение 140 тонн, мощность паровой машины 160 лошадиных сил, вооружение — два «единорога») был заново собран и спущен на воду 26 февраля 1853 года, и этот день можно считать днем рождения Аральской флотилии, первым командиром которой стал Бутаков. Весной того же года «Перовский» совершил первое в истории плавание вверх по Сырдарье, а в следующем году пароход принял участие и в боевых действиях. При штурме кокандской Ак-Мечети он поддерживал русские войска с реки, а командовавший флотским десантом лейтенант Христофор Эрдели одним из первых прорвался сквозь вражеские укрепления и ворвался в цитадель крепости.
Со своей стороны «Обручев» (водоизмещение 16 тонн, мощность машины 40 лошадиных сил) совершил свое первое плавание только в 1855 году. В дальнейшем вместе с «Перовским» эти два судна участвовали в рекогносцировке среднего течения Сырдарьи, занимаясь также снабжением русских войск, которые по долине реки все глубже проникали на территорию Кокандского ханства.
В районе Ак-Мечети на борту парохода «Перовский» побывало посольство бухарского эмира. Этот визит в своих путевых заметках описал русский ученый-востоковед Петр Пашино:
«Мы вошли на пароход “Перовский”, где было очень много офицеров. Посланники поздоровались со всеми офицерами и взошли на трап. Пароход тронулся; быстро мы ехали вниз по Сырдарье. Погода стояла чудесная, музыка гремела; когда переставала музыка, песенники орали во все горло... Потом мы спускались вниз рассматривать машину. Бухарцы были поражены — они никогда не видели такого дива... Мы показывали послам, как пароход свистит; они спрашивали, отчего этот свист происходит. “Шайтан”, — говорили они.
— Вот этой ручкой, — говорю я, — нажмут черту хвост, — он и свистит.
Они хохотали наивным ребяческим хохотом».
Вниз по Амударье
Впрочем, даже вроде бы приспособленные для плавания в местных водах «Перовский» с «Обручевым» доставляли своим экипажам массу хлопот: пароход постоянно садился на мель, а баркас часто не мог справиться с быстрым течением Сырдарьи. Вместе с тем состав флотилии постоянно пополнялся. К концу 1856 года в нее помимо «Перовского» и «Обручева» входили деревянные шхуны «Константин» и «Николай», два железных баркаса и пять шлюпок. В качестве топлива для флота использовался саксаул. Поскольку все суда отличались малой осадкой, для выходов в Аральское море предусматривалось использовать выдвижные кили.
Закрепившись в низовьях Сырдарьи и на северном берегу Арала, русские обратили свое внимание и на южную часть моря, где в него изливались многочисленные рукава самой полноводной реки Центральной Азии. Еще в 1848 году Бутаков впервые исследовал устье Амударьи, а спустя десять лет на пароходе «Перовский» он поднялся по реке уже до Кунграда, жители которого подняли восстание против хивинского хана. Здесь русские моряки встретили армию хивинцев, которая при виде вооруженных судов предпочли ретироваться:
«Хивинцы, разъезжавшие перед моими судами в продолжение трех часов и начинавшие уже выводить на мысу впереди меня батарею, вдруг сняли орудия с позиции и отвезли к своему главному лагерю; потом пропарадировало мимо меня прикрытие из 400 конных туркменов-чаудуров, вооруженных больше чем на две трети английскими двуствольными ружьями, и человек из 300 босоногой пехоты в красных куртках, вооруженных наполовину фитильными ружьями, а остальные пиками, при турецком барабане. Таким образом они сами очистили нам дальнейший путь вверх» («Отечественные записки», 1866 год).
В дальнейшем суда Бутакова достигли Нукуса, где также произвели фурор:
«Появление моего пароходика было для хивинцев остолбеняющим сюрпризом: вся эта толпа смотрела на невиданное диво в немом и ошалелом изумлении. Когда я уже проходил крепость, из нее прибежал к берегу чиновник бека (коменданта) с приглашением пристать и посетить его. Я отвечал, что теперь иду в Ходжайли, но на возвратном пути непременно посещу бека, о мудрости и добродетелях которого я так много наслышался» («Отечественные записки», 1866 год).
Однако попытки русской флотилии пройти дальше на юг, в сторону Хивы и Бухары, сорвались из-за резкого обмеления Амударьи, так что на этом этапе Бутакову пришлось довольствоваться исследованием лишь многочисленных рукавов устья.
Флотилия растет
26 декабря 1861 года Аральская флотилия, до этого момента подчинявшаяся оренбургскому губернатору, была наконец официально включена в состав российского императорского флота. Ее штат был утвержден в количестве 249 человек — восьми штаб- и обер-офицеров, 193 строевых нижних чинов и 48 нестроевых и мастеровых. Основная база флотилии еще раньше переехала из Раима в Казалинск.
С учетом пожеланий самих моряков в Англии были заказаны два плоскодонных парохода «Арал» (водоизмещение 149 тонн, мощность машины 40 лошадиных сил) и «Сыр-Дарья» (70 тонн, 20 лошадиных сил). Однако их конструкция также была не самой удачной и в эксплуатации они были еще сложнее, чем их предшественники. Только после этого флотилию, наконец, пополнило судно, полностью спроектированное с учетом особенностей местной навигации — пароход «Самарканд». Вместе с «Перовским» и тремя баржами под общим командованием начальника Аральской флотилии капитана 1 ранга Александра Ситникова он принял участие в Хивинском походе 1873 года. Во время артиллерийской дуэли с войсками хана на «Самарканде» был пробит левый борт, разбита подушка орудия, отбита лапа якоря, осколками ядра ранены семь нижних чинов (двое впоследствии умерли) и сам начальник флотилии Ситников.
Когда после покорения центральноазиатских государств впадающие в Арал реки почти по всему течению стали контролироваться русскими, пароходы начали ходить вверх до самого Чиназа на Сырдарье и до Чарджоу (сегодня — Туркменабад) на Амударье. Важным пунктом на их маршруте стал Петро-Александровск (Турткуль). По случаю первого рейса парохода по Амударье выше хорезмийского оазиса газета «Туркестанские ведомости» писала:
«22 марта 1877 года пароход “Самарканд” отправился в плавание из Петро-Александровска и до Учкудука шел благополучно, 30 марта подошел к крепости Кабаклы, 3 апреля продолжал плавание, погрузив прибывшие на каюках дрова. 7 апреля подошел к Чарджоу. Обратное плавание совершил быстрее, прибыв в Петро-Александровск 18 апреля».
В дальнейшем «Самарканд» начал осуществлять регулярные рейсы между Казалинском и Нукусом — плавание туда и обратно занимало около месяца. На Сырдарье пароход поднимался даже выше Чиназа, хотя рейсы в том направлении были нерегулярными прежде всего из-за капризного течения реки. Русский живописец и писатель Николай Каразин в своей повести «В камышах» упоминает, что местные жители называли русские паровые суда «шайтан-каиками», то есть «чертовыми лодками»:
«— В самой середине, в темном-темном ящике сидит сам шайтан, я видел, — говорит шепотом старик киргиз своим соседям, — лапы он с боков просунул и гребет по воде… видите, видите, вон как пенится, даже шум слышно!.. А дышит черт через трубу, а кормят этого черта саксаулом или углем из каменных гор — русские привозят!»
Увы, но срок службы «Самарканда» оказался не самым долгим: в ночь с 15 на 16 января 1881 года у форта Перовский (бывшая Ак-Мечеть, а ныне Кызылорда) пароход пропорол днище камнем и затонул. Над поверхностью выступала только часть левого борта с гребным колесом, дымовой трубой и половиной рубки. Все попытки поднять судно потерпели фиаско, поскольку быстрые и мутные воды Сырдарьи исключали возможность работы водолазов.
Всего с 1865 по 1879 годы судами Аральской флотилии было перевезено 28 тысяч тонн различных грузов и 29 тысяч пассажиров. Стоимость содержания флотилии к 1880 году составила 261 тысячу рублей, а ее личный состав к этому времени насчитывал 24 офицера и 548 нижних чинов. Под флагом флотилии ходили пять пароходов, десять барж, пять паромов и одиннадцать баркасов, включая один паровой.
Ребрендинг и переезд
По завершении крупных военных кампаний в Центральной Азии царское правительство задумалось о целесообразности сохранения флотилии, поскольку из-за малой мощности двигателей, глубокой осадки пароходов, мелководья и изменчивости фарватера местных рек, которые делали невозможным регулярное сообщение, количество перевозимых ею грузов было не слишком велико, а стоимость содержания, наоборот, крайне высока. Почти столько же приходилось тратить на всю Каспийскую флотилию, хотя она насчитывала намного больше судов, включая первые российские танкеры.
В 1883 году принимается решение об упразднении Аральской флотилии и передаче ее материально-технической базы, включая плавсредства, на поддержку частных пароходных предприятий.
Часть оборудования, действительно, была продана с молотка, однако уже четыре года спустя принимается решение о создании новой, Амударьинской флотилии с главной базой в Чарджоу. Казалинск же со строительством железной дороги из Оренбурга в Ташкент полностью утратил свое значение как порт.
Одним из главных инициаторов создания флота на Амударье выступил строитель Закаспийской железной дороги, генерал Михаил Анненков. По его замыслу, речные суда должны были решать как чисто военные задачи, охраняя транспортные коммуникации от набегов кочевников, так и помогать железнодорожникам, перевозя грузы, необходимые для строительства магистрали, которая, хоть и по суше, но связала Амударью с Волжско-Каспийским бассейном.
Плюс появление флота почти на самой границе русских владений должно было служить сдерживающим фактором для англичан и союзных им афганцев — пресловутая «Большая игра» между Санкт-Петербургом и Лондоном как раз вступила в самую горячую фазу.
По заказу Военного министерства на кораблестроительном заводе «Бутц и Пампель» в Санкт-Петербурге были построены два буксиро-пассажирских парохода (водоизмещение каждого 165 тонн, мощность машины 500 лошадиных сил) и две баржи грузоподъемностью по 163 тонны. Их доставили в Чарджоу в разобранном виде и собрали в 1888 году в железнодорожных мастерских. Пароходам дали названия «Царь» и «Царица», а баржам — «Петербург» и «Москва». Суда стали совершать регулярные рейсы от Петро-Александровска до Керки, то есть почти до границы с Афганистаном.
В отличие от своей предшественницы Амударьинская флотилия изначально относилась к военно-морскому ведомству: ее суда плавали под командой флотских офицеров и носили военный флаг. В начале XX века по Амударье ходили уже 9 пароходов, два паровых катера и 18 барж. В среднем они ежегодно совершали 77 рейсов, перевозя 17 тысяч пассажиров и 8 с половиной тысяч тонн грузов. И это при том, что ходить по Амударье, реке полноводной, но мутной и непостоянной, было ничуть не проще, чем по Сырдарье или Аралу.
Историк флота Иван Черников в своей книге «Энциклопедия мониторов: защитники речных границ России» пишет:
«Нужно сказать, что суда флотилии создавались для чрезвычайно трудных условий плавания, при высокой начальной скорости и сравнительно большом падении Амударья летом приобретает характер потока, бурно несущегося по беспредельной песчаной равнине… Таким образом, на реке нельзя было пользоваться обычными способами речного судовождения. Так, прежде чем идти по фарватеру, его нужно было отыскать. Для этого существовал только один способ — солидный опыт плавания, который давался с годами и требовал большого напряжения зрения и памяти при наличии особого лоцманского чутья».
Описывая трудности навигации на Амударье, русский ученый и инженер-кораблестроитель Алексей Крылов приводит случай, когда в 1880 году один из пароходов еще Аральской флотилии во время разлива реки сел на мель в нескольких сотнях метров от берега. Когда вода сошла, судно, отдав якорь, осталось стоять посреди песков еще целых два года. На нем продолжалась обычная флотская жизнь в полном соответствии с уставом: поднимался и опускался флаг, проводились артиллеристские учения, метеорологические наблюдения, учебные и боевые тревоги, в день рождения царских особ производился салют, а в судовой журнал заносились записи вроде «Стою на якоре близ кишлака Абдул-Чекмень». Так продолжалось, пока начальство не разузнало про необычную «службу» парохода — против командира и офицеров было возбуждено дело, однако состава преступления суд не нашел, и все ответственные лица были оправданы.
Амударьинская флотилия формально просуществовала до лета 1918 года, хотя еще в октябре 17-го почти весь ее личный состав перешел на сторону советской власти и навигация, по сути, встала. Три года спустя большевики в Центральной Азии также обзавелись своими речными ВМС — ими были сформированы Аральская (1919-1920 годы), Амударьинская (1920-1921) и Сырдарьинская (1922) флотилии. Основными базами флота красных стали Чарджоу, Аральск и Ходжент. Вместе со старыми пароходами, которые ходили в основном по Амударье, в состав флотилий Туркестанского флота РККА вошли также переброшенные с Волги и Онежского озера речные канонерские лодки и бронекатера. Помимо перевозки войск и грузов эти корабли содействовали войскам большевиков в разгроме белогвардейцев, войск Бухарского эмирата, Хивинского ханства и басмачей. Правда, эксплуатация таких плавсредств столкнулась с новыми проблемами — поскольку вода Амударьи содержит около 10% песка, системы охлаждения двигателей на кораблях постоянно засорялись, их приходилось каждые три часа останавливать и чистить.
После окончания Гражданской войны надобность в отдельной военной флотилии на водах Центральной Азии отпала. Вместо них на Амударье был создан отряд боевых катеров, подчинявшихся погранохране до самого распада СССР. В свою очередь военные корабли на Арале в дальнейшем вошли в Аральский дивизион Каспийской флотилии.
Что касается гражданских судов, то в Чарджоу было создано Среднеазиатское пароходство. К середине прошлого века в его составе числилось около полутора сотен пароходов, теплоходов, буксиров и прочих моторных судов, а также свыше 300 барж. В самом Чарджоу располагался судоремонтный завод, на котором трудились свыше 800 человек. Пароходство обслуживало прилегающие к Аральскому бассейну области Туркменской, Узбекской, Таджикской и Казахской ССР. В основном ходившие здесь суда занимались грузовыми перевозками, но были и исключения — так, например, в районе Байконура некоторое время ходил туристический теплоход «Кама», который по старинке доставили на Сырдарью по железной дороге в разобранном виде, а потом заново сварили. И это, разумеется, не считая многочисленных рыболовецких судов, которых только на Арале насчитывалось свыше полутора сотен.
Ближе к последней четверти XX века из-за уменьшения стоков Амударьи и Сырдарьи и последовавшего высыхания Аральского моря судоходство в регионе стало сходить на нет, а развал СССР фактически поставил на нем жирную точку. Сегодня от военных флотилий былых времен лишь на Амударье у Туркменистана и Узбекистана имеются небольшие группы сторожевых катеров. Эксплуатируются и некоторые грузовые суда, но только на ограниченных участках реки и крайне нерегулярно.
-
 16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре
16 февраля16.02Огненная, красная — и прекраснаяКак лошадь стала незаменимым животным в китайском календаре -
 13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию
13 февраля13.02Конец смутного времениКак тюрки навсегда изменили Центральную Азию -
 10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой
10 февраля10.02Центральная Азия на рандеву у ТрампаПочему в нынешней внешней политике любимчиком быть сложнее, чем сиротой -
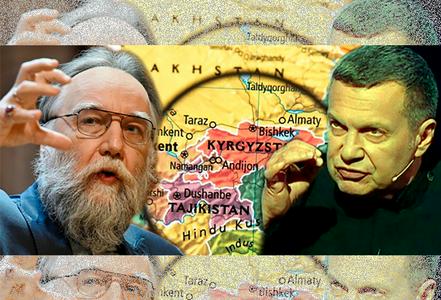 19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории?
19 января19.01Как соловей о розеЖдать ли странам Центральной Азии СВО на своей территории? -
 22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет
22 декабря22.12ФотоТокийский драйвЯпония инвестирует около $20 млрд в проекты в странах Центральной Азии в течение пяти лет -
 17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни
17 декабря17.12Сакэ на шестерыхСближение центральноазиатских республик с Японией таит в себе подводные камни